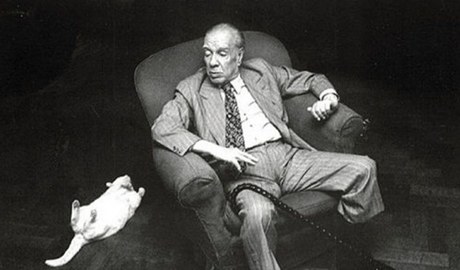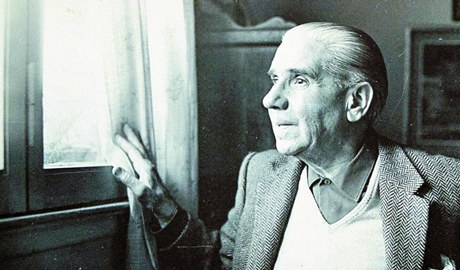Альфонсина Сторни
Альфонсина и море
Альфонсина Сторни (1892–1938) — самый страстный голос аргентинской поэзии. Ее лирика – исповедь тонко чувствующей, ранимой, но сильной души.
У поэтессы была непростая судьба, и жизнь ее трагически оборвалась в 46 лет.
Незадолго до этого Альфонсина написала пронзительное предсмертное стихотворение
«Voy a dormir» («Пойду я спать»):
Кормилица, чьи руки — травы, зубы -
цветы, чьи волосы — в росе, ты землю
мне приготовь для простыни, из мха же,
из водорослей сделай одеяло.
Пойду я спать, кормилица, усну я.
Поставь у изголовья мне светильник;
созвездие; какое ты захочешь:
прекрасны все; чуть наклони пониже.
Покинь меня… Бутоны распустились…
Тебя баюкает стопою небо,
и птица над тобою — так забудешь
ты все… Спасибо. Ах, еще вот просьба:
звонить он если будет снова, просто
скажи — пусть не звонит, скажи — ушла я
О гибели поэтессы Ариелем Рамиресом и Феликсом Луной была написана одна из
красивейших аргентинских песен «Alfonsina y el mar». Вот эта песня в исполнении
певицы Мерседес Сосы:
http://www.youtube.com/watch?v=nTKTMQ8C3nM
На месте гибели Альфонсины была установлен памятник, сделанный скульптором
Луисом Перлотти. Смерть поэта — это всегда трагедия, и, как верно заметила
Цветаева в письме Райнеру Мария Рильке, — вечно длящаяся трагедия: она —
нескончаема и непрерывна, поэт «никогда не может умереть, поскольку он умирает
именно теперь (вечно!)». И песня, и стихотворение самой Альфонсины, и памятник
ей на берегу, — свидетельство этой вечной трагедии, навсегда соединившей
Альфонсину и море, которое она так любила.
Стихотворения
Потерянная нежность
Если с пальцев моих беспричинная нежность
вдруг слетит, если с пальцев моих… то её,
эту нежность потерянную, с дуновеньем
эту нежность бесцельную, кто подберёт?
Я могла бы любить в эту ночь бесконечно,
я влюбилась бы в первого встречного, но —
никого. Одиноки цветущие тропы.
Ветер нежность всё дальше и дальше несёт…
Если вдруг поцелуют глаза твои, путник,
в эту ночь, а в дыханье ветвей — забытьё,
если пальцы твои вдруг рука мимолётно
вдруг возьмёт и отпустит, сожмёт, пропадёт,
Если руку ту, губы те ты не увидишь,
поцелуй если ветра виденье — и всё,
ты, о, путник, глаза чьи бездонны, как небо,
моей нежности в нём распознаешь полёт?
Два слова
Этой ночью ты прошептал мне два слова
простых. Два слова, уставших снова
и снова быть произносимыми. Два слова,
что, старые, новыми стали.
Два слова столь нежных, что, с неба ночного,
луна, просочившись сквозь веток покровы,
замерла на устах моих. Столь нежных два слова,
что пошевелиться боюсь, не решаюсь,
стряхнуть муравья с шеи чтобы.
Столь нежных два слова,
— что говорю, не желая того — о, жизнь так прекрасна! —
столь нежных, столь кроткого зова,
что на тело льют масло душистое словно.
Столь нежных и столь прекрасных,
что нервные мои пальцы,
как ножницы, тянутся к неба тканям атласным.
О, пальцы мои срезать звёзды желают так страстно!
Твоя нежность
Я спокойно иду по тропе, и цветут вдоль неё акации,
и дурманят меня их руки снежными лепестками,
и горячий западный ветер с моими играется волосами,
и словно пеною благородства души исходят пульсации.
Добрый гений: весь день со мною — благодати твоей эманация,
один только вздох — и я вечное, и недолгое пламя.
Но душа ведь подвижна – полечу ли и я за мечтами?
На ногах моих выросли крылья и танцуют три Грации.
Ибо руки твои вчера ночью в объятьях моих горящих
кровь мою переполнили нежностью, а затем уст пьянящих
своих напоил ты уста мои мёдом душистым.
Таким свежим, что боюсь возвращаться в родное своё селенье
благоухающим этим рассветом
он слетит с моих губ цветом бабочек золотистым.
Стихи к печали Буэнос-Айреса
Прямые улицы, что серы и унылы,
порой где небо видно, как
и их асфальт, и их угрюмые фасады
мои мечты весенние лишили силы.
Как много я, не видя, кто идет навстречу,
по ним бродила — как по пасмурной темнице.
Их монотонностью душа моя томится.
И — «Альфонсина!» — не зови. Я не отвечу.
когда пленяешь неба синеву благую,
не удивит меня тяжёлое надгробье.
Ведь я уже была погребена, пока я
по улицам бродила, что полуживая
река соединила водяною дробью.
***
Любя, печалью мягкою я таю.
Могу я небо опустить — другого
когда я душу со своей сплетаю.
И пуха мягче я тогда любого.
Никто, как я, так не целует руки,
не нежится в мечтах так не по делу.
Так ни одна душа другому телу
сама не отдаётся на поруки.
Я умираю на глазах — живыми
когда их ощущаю под своими
я пальцами в крылатом их обличье.
Слова я знаю, чары что наводят,
но и молчать умею я, восходит
когда луна во всём своём величье.
Воля
Опьянённая бабочка
вечером
кружила над нашими головами,
сужая свои белооблачные
круги,
стремясь к острой вершине
твоих уст,
возвышавшейся напротив моря.
Земля и небо
умирали
в зелёной музыке вод,
не знавших исхода.
Отступала,
рассыпаясь,
линия горизонта,
и собирались танцевать
чёрные камни.
И меня всё манили
круги наверху,
направляя меня к тебе,
словно к далёкому источнику,
с которого они сольются.
Но только поздно вечером
я испила, медленно,
цикуту
твоих уст.
Пламя
Мой стон зажигает мякоть
божественного сердца,
и его содрогание
превращает в бархат
мох земли.
Янтарь
выжатый из
цветов лазурных
увлажняет
мои застывшие губы.
Реки крови
текут с моих рук,
чтобы пролиться
на лица людей.
К кресту времени
пригвождена я.
Шум отдалённый
мира, порыв горячий,
испаряет пот
на лбу моём.
Мои глаза, маяки горечи,
высекают таинственные знаки
в пустынных морях.
И, вечное,
пламя моего сердца
поднимается спиралью
освещать горизонт.
Из книги «Стихи о любви»
VII
Каждый раз, когда я ухожу от тебя, я сохраняю в своих глазах сияние твоего последнего взгляда. И тогда я бегу, чтобы закрыться от всех, я выключаю свет, избегаю малейшего звука, чтобы ничто не украло у меня ни одного атома эфирного вещества твоего взгляда, его бесконечной нежности, его светлой застенчивости, его изящного восторга. Всю ночь, розовыми подушечками пальцев, я касаюсь глаз, которые видели тебя.
X
Когда я получила твои первые слова любви, в моей комнате было много света. Я бросилась к дверям и закрыла их. Я была священной, священной. Ничто, никто — даже свет не должен был коснуться меня.
XVI
Я говорила тебе несколько раз, в своих письмах, о моей руке, отделяющейся от моего тела и летающей ночью по городу, чтобы найти тебя. Когда ты ужинаешь дома, не замечаешь ли ты большую бабочку, которая настойчиво кружит вокруг тебя под тихим взглядом твоих родных?
XXIII
Я смотрю на лица других женщин с гордостью, а на лица других мужчин с безразличием. Я отхожу от них, лелея свою грёзу. В ней твои глаза расслаблено танцуют в такт опьяняющей музыке весны.
XXVIII
Иногда кажется, что моя комната населена духами, потом что в темноте я слышу таинственные вздохи и их отчетливое дыхание, постоянно перемещающееся. Ты их послал? Или это ты сам, невидимый, вездесущий, окружаешь меня?
LIII
Порою ты предлагал отправиться в невозможные путешествия. Поедем, ты говорил, туда, где мы будем одни, где климат будет мягким, а люди будут добрыми. Ты бы будил меня, и мы бы завтракали вместе. Потом мы ходили бы босиком искать необычные камни и непахнущие цветы. После полудня, растянувшись в гамаке под ветвями — чёрными, острыми костями деревьев, ласковых мягкой милостью своих листьев — я бы засыпала, чтобы видеть тебя во сне. Проснувшись, я бы видела тебя рядом, еще ближе, чем во сне. А ночами ты бы ждал меня у дверей моей спальни.
В этот вечер
Я в этот вечер
Хочу любить далекого
Божественного человека,
Кто был бы птицей, к сладости летящей,
И много женщин было у кого,
Кто знал бы о чужих краях, цвели бы
Слова чьи на губах, благоухая:
Вот участь сельвы девственной под ветром…
Хочу любить его сейчас. Спокоен
И мягок этот вечер, словно мох.
Мой рот и пальцы тонкие трепещут,
И косы расплетаются мои.
Неясный слышу шум…и вся земля
Так сладостно поет… И вдалеке
Леса, обремененные венцами,
Ручьи, из берегов своих что вышли,
Чьи воды в землю проникают так же,
Как и мои глаза в глаза другие,
Завороженно грежу о которых…
Но солнце
Уж опускается с высоких гор,
И птицы все в укрылись гнездах, вечер
Так далеко, как это солнце, что
Со мной вовек останется, со мною –
С дрожащими устами, с истонченной
Душой, надеющейся на любовь,
Благодаря которой становлюсь я
И нежной, и прекрасной…
Прошедший мимо…
Это было ночью… душа моя
Трепетала от грусти…
Окна скрипели. Снег… Снег на ветвях…
Это было ночью; это
Моя жизнь была потоком, остановленным изморозью.
И мне говорили: Смотри!
Он пройдёт через дом твой!
И я смотрела на него: он нёс
В руках своих тёмных пригоршни рассветов.
В глазах его – семена истины. Её ростки,
Солнечные, уже были зрелые, и потому излучали сиянье,
И были они голубями, Господи, голубями были его слова.
Я открыла настежь двери моего дома,
И сердце открыла я,
Так же, как окна.
Через окна проникло солнце, и в это мгновенье
В сердце моё проникло солнце, и белые голуби.
Он прошёл своею дорогой,
Не глядя в глаза мои, не глядя в душу мою.
Он прошёл своею дорогой…
Его благодать не была моею!
И снова закрыт был
Мой дом, и окна его
Закрыты.
Ночь изменилась: падал
Снег. И был снег на ветвях.
Предчувствие
Я предчувствую, что жить мне осталось недолго.
Голова моя словно плавильная печь,
все очищает и поглощает.
Но без единой жалобы и без всякого страха
я тихо хочу умереть безоблачным вечером,
под ясным солнцем.
И пусть белая змея родится в ветках жасмина,
и, нежная, нежно пусть в сердце меня ужалит.
***
Послушай: я была словно спящее море.
Ты разбудил меня, и разразилась буря.
Я сотрясаю свои волны, топлю свои корабли,
Я поднимаюсь к небесам и наказываю звезды,
Мне стыдно, и я прячусь в своих складках,
Я довожу до безумия и убиваю своих рыб.
Не смотри на меня со страхом. Ты сам хотел этого.
Зарезанные слова
Зарезанные слова,
падают с моих губ,
не родившись;
невинные, задушены они,
солнца не увидев;
отягощенные желаньями
и переполненные ими…
Моими искаженные устами,
хотевшими явить их,
но уронившими их в омут
пустоты…
Отделенные от небесного меда,
сжавшиеся в вас
в венках цветущих.
Обескровленные в вас
– не рожденные –
сети самого дальнего и самого близкого,
полумесяцы,
истощенные рыбы,
бескрылые птицы,
свернувшиеся змеи…
Не прощай меня,
сердце.
Баллада о Буэнос-Айресе
Как ты плачешь, как ты плачешь,
Что с тобой?
– Не видишь разве бурую реку?
Бока мне точит она хладнокровно.
Солнце не видишь ты за Конгрессом?
Оно бескровно.
Как танцуешь, как ты танцуешь,
Что с тобой?
– Не видишь разве мёртвые очи
Ты женщин моих, моих портовых?
Молчаливы они, как речные воды,
В мечтаньях новых.
Как ты дремлешь, как ты дремлешь,
Что с тобой?
– В руках торговцев моих оставляю
Дела мои, чтоб они шумели.
И дремлю я так в беспокойном шуме
Как в колыбели.
Как ты даришь, то, что даришь,
Что с тобой?
– Я не знаю, что значит утро,
Едва о новом приходит весть,
Я забываюсь в моем прошедшем,
Я – то, что есть.
Когда захочет, что ты создашь,
Забрать судьба у тебя, как плату,
Что ей отдашь?
Мне не страшно, какую бы цену
Она не назначила, я ей отдать
Смогу те лёгкие, что уже пробиты
И те, которым еще страдать.
Эссе Габриэлы Мистраль об Альфонсине Сторни
Мне говорили: «Альфонсина некрасивая», так что я ожидала увидеть лицо не
такое приятное, как голос, который я слышала по телефону, одно из таких, что
словно наказание для тех, кто совершенен внутри. И, открыв дверь Альфонсине, я
была сбита с толку и простодушно спросила: «Альфонсина?» - «Да,
Альфонсина», и она улыбнулась замечательной сердечной улыбкой.
У нее необыкновенная голова,
Вот такая наша Альфонсина. В ее облике мало нашего, так сказать, очень мало
американского. Я всегда испытывала интерес к родословным, и поэтому начала
Мы провели вместе семь дней. Признаюсь, что я немного боялась нашей встречи,
хотя и желала увидеться, потому что я всегда хочу узнать все самое лучшее в
мире. Письма мало сделали, чтобы сблизить нас. В отличие от американских
женщин, украшающих себя литературными письмами, Альфонсине свойственно
своенравное желание сбивать с толку своих корреспондентов. Возможно, это
является защитой от того бедствия, которым стала переписка литераторов. Моя
Альфонсина из писем была эгоистичной, шутливой и порой умышленно
банальной. Был и ясный страх, помимо невыразимого, в моей боязни нашей встречи:
у меня были личные причины; я далека от того, чтобы быть щедрым созданием, что,
подобно хорошей земле, обладает самыми разнообразными вещами и может всем
угодить. По своему характеру словно хозяйка придорожного трактира, я боялась,
что моя кукурузная мука и обычное молоко могут не понравиться гостье.
Мое волнение длилось недолго. Я не говорила о предметах, не интересовавших
Альфонсину, а она не упоминала о том, что было бы чуждым мне. Я встречала очень
мало женщин, столь разумных в общении: я никогда не уставала от ее манер,
и у меня ни разу не возникало желание уйти и спрятаться. Она более открыта, чем
Хуана, которая, имея в роду настоящих басков, умеет защищаться.
Вся радость ее дружбы в ее уме. Она мало проявляет свои эмоции. И это
оказывается преимуществом; поскольку в американских землях пылкое проявление
чувств заканчивается тем, что надоедает так же, как изобильный пейзаж.
Глубокая, когда она этого хочет, без трансцендентализма; глубокая, потому что
страдала и умеет переносить, как немногие женщины, раны, полученные в жизни.
Счастливая, но не этой радостью людей, чрезмерных во всем, подобной
раскрашенному ковру, но радостью изящной, сотворенной игрой. Она очень
внимательна к тем, кто хорошо к ней относится; это внимание разума, но в нем —
проявление живого чувства расположения. Образованная как немногие в этой жизни,
она может дать уместный комментарий самым разнообразным вещам; по жизни она
женщина большого города, соприкасающаяся со всем и все пропускающая через себя.
Альфонсина из тех, кто воспринимает через разум столько же, сколько через
чувства, — черта очень латинская.
В ней есть простота, и, повторюсь, изящная простота; в эти дни много
грубых людей было вокруг нас, и их грубость так ужасна на фоне ее драгоценной
простоты. В ней полностью отсутствуют неискренность и педантизм. И ей
свойственно чувство собственного достоинства, которое никогда не перейдет в
хвастовство, чувство собственного достоинства того, кто понимает свои силы в
этой полной тягот жизни и того, кто находится в гармонии с собой. Улыбаясь, что
было характерно для нее, она сказала мне: «Альфонсина — значит быть
готовой ко всему».
Вот что можно сказать о поэтессе, которую среди аргентинских поэтов можно
поставить после Лугонеса. Зарубежные критики, которые не пишут рецензии, чтобы
причинить боль или получить ответные комплименты, осыпают ее похвалами.
По силе дарования она рядом с Хуаной (которой мы все восхищаемся) благодаря ее
богатой, эмоционально всеобъемлющей поэзии, разнообразной в своей человечности,
в своей милосердной, жестокой, страдающей и игривой человечности. Она давно
получила признание.
Я испытала мгновение наибольшего взаимопонимания с Альфонсиной, когда она стала
говорить о Дельмире Агустини, которой мы обе восхищаемся. «Она, — сказала мне
Альфонсина, — лучшая среди нас, и мы никогда не должны ее забывать». Для меня
было счастьем услышать это: это редкое качество в Америке
Я чувствовала рядом с Альфонсиной огромное удовольствие, которое испытываешь,
когда среди живущих встречаешь совершенное создание, равное в достоинстве с
великими прошлого. И еще вот почему: она женщина, которая сразилась с тяготами
жизни и которая обладает радушной душой тех женщин, которые получили помощь,
или тех женщин, которые никогда не нуждались в помощи.
1926
(Габриэла Мистраль – чилийская поэтесса, нобелевский лауреат)
Переводы Алешина Павла.